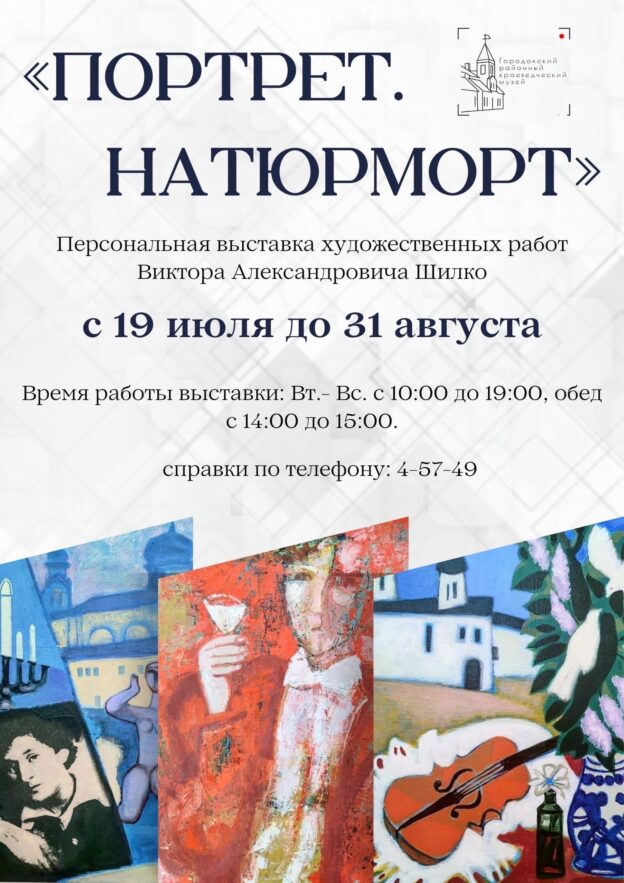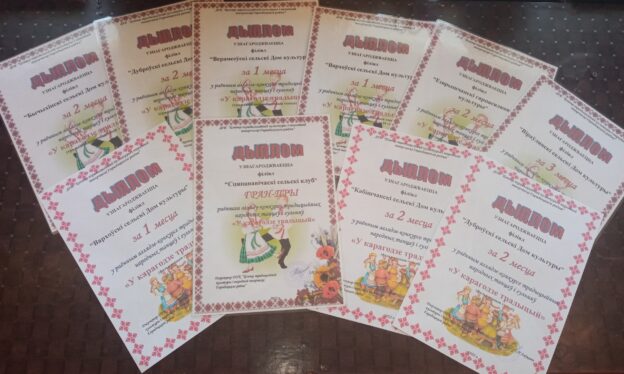13 ліпеня пасля цяжкай хваробы завяршыў зямны шлях Марк Іосіфавіч Крывічкін. На габрэйскіх могілках Гарадка з’явілася яшчэ адны магіла з целам чалававека, які дзесяцігоддзі свайго жыцця аддаў дзейнасці па ўшанаванні памяці гісторыі габрэяў на Гарадоцкай зямлі і сувязі з іх нашчадкамі ў Ізраіле, Англіі, Нямеччыне, ЗША і іншых краінах.

Менавіта дзякуючы Марку з’явіліся сучасныя помнікі памяці халакосту Другой сусветнай вайны ў г.п. Езярышча і ў Вараб’ёвых гарах, даглядаліся існуючыя могілкі ў Гарадку, праводзіліся традыцыйныя сустрэчы габрэяў на гарадоцкай зямлі і г.д.. Шмат часу было аддадзена краязнаўчай працы і супрацоўніцтву з часопісам “Мішпоха”, які рэдагуе Аркадзь Шульман.
Будучы лекарам высокай кваліфікацыі ён дзесяцігоддзямі аказваў якасную дапамогу хворым пацыентам у Гарадоцкай райбальніцы. Тысячы грамадзян удзячны доктару за дапамогу і падтрымку.
У апошні зямны шлях Марка Іосіфавіча правяла любімая жонка Міра Захараўна, блізкія сябры і калегі па працы. Светлая памяць пра Марка Іосіфавіча застанецца ў нашых сэрцах…
Публікуем матэрыял з часопісу “Мішпоха” нашага вядомага зямляка.
НОСТАЛЬГИЯ

Марк Кривичкин.
У кого-то нет ностальгии по родным местам, даже если они живут далеко–далеко. Но это – по их утверждениям. Я в это мало верю.
А я хожу по знакомым улицам, каждый день, и у меня есть ностальгия по ушедшему.
Вот напротив городской бани стоят дома – еврейские дома, где уже давно евреи не живут, а ведь здесь жили Копл и Махалея Донские, рядом – Циля Щербаковская с мужем, подруга моей бабушки; чуть дальше – «Сорэ ди Гробе» (Шалыт) с Абрамом Маганиным, потерявшим всю свою семью во время войны. Он помог выжить «Сорэ ди Гробе» и ее семье в нелегкие послевоенные годы – из этой семьи мой лучший друг Борис Лившиц. Дальше к реке жил Залман Черновский, который работал мясником на бойне, а напротив – Симон Шмулович, а после его смерти – мой учитель по жестяному делу Семен Должанский с семьей. И так практически на любой улице в моем родном Городке. Но жизнь течет, и скоро здесь не будет евреев вообще. Это очень печально.
Мы плохо знаем свою историю, но, думаю, что в здешних местах основная маса евреев появилась после разделов Польши в конце XVIII века.
Мой дед Мендл Авром-Шолом Янкелевич Кривичкин и его брат Файвл были малограмотными людьми, но прекрасными каменщиками, руками которых были вымощены городские улицы. Они имели лицензию до революции, несмотря на черту оседлости, на работу в Санкт-Петербурге и Москве, куда нередко ездили на заработки. Кем был их третий брат, я не знаю. В 1923 году он эмигрировал в США, где в Чикаго основал небольшую шляпную фабрику, и до войны присылал письма и деньги родным, но после войны переписка была крайне опасным делом и поэтому – прекратилась. Поиски американских родственников, предпринятые нами в последнее десятилетие, положительных результатов не дали.
Бабушка Хана (в девичестве Пейсахович) работала непродолжительное время на изготовлении папирос, но потом по настоянию дедушки оставила работу и занималась воспитанием двоих сыновей: старшего – моего отца Иосифа Менделевича Кривичкина, 1912 года рождения, младшего – моего дяди Абрама Менделевича, 1915 года рождения.
Мой отец после окончания школы поступил на физико-математический факультет Витебского пединститута. Окончив институт, вернулся в Городок, где явился основателем и первым директором Школы рабочей молодежи.
После окончания Витебского еврейского педагогического техникума на работу воспитателем в еврейский детдом, который находился в деревне Александрово (ныне Прудники), была направлена моя мать Кривичкина (Грабовская) Хая Исааковна (воспитанники звали «Хавертэ Хае»). В 1936 году родилась моя старшая сестра Лиза, ныне Елизавета Иосифовна Глазман (живет в Минске).
В 1940 году отца призвали в армию, и он попал на финскую войну. Вернулся в начале 1941 года. Но грянула Великая Отечественная война, и отец сразу ушел на фронт. Дед колебался, бежать от немцев или нет, ссылаясь на то, что кто-то из его родственников в годы Первой Мировой войны был у них плену, и никакого вреда ему они якобы не причинили. Но моя мама убедила деда с бабушкой, приведя им в пример множество беженцев из Польши, появившихся у нас после начала Второй мировой войны. И, уже отъехав довольно далеко от Городка, дед хотел возвратиться, но мама проявила характер. Недалеко от Москвы эшелон, в котором они ехали, подвергся немецкой бомбежке, и в этой суматохе и панике пропала моя тогда пятилетняя сестра Лиза, но через пять дней она нашлась. Вот тогда мама поседела и на протяжении оставшейся жизни частенько кричала во сне, когда ей снилась война. Потом мама с сестрой и дед с бабушкой попали в Свердловскую область, где мать устроилась бухгалтером в колхоз, благодаря чему они прокормились. В 1944 году, прослышав, что Городок освобожден, они решили вернуться. Дед, увидев, что от его большого дома ничего не осталось, не смог этого пережить, и вскоре скончался. Несомненно, этому способствовало известие, что брат деда с частью семьи были расстреляны фашистами в урочище Воробьевы Горы.
Мать сразу стала работать учительницей начальных классов и отработала на этой работе сорок четыре года. Отец закончил войну в Австрии в звании капитана, будучи награжденным орденами и медалями. Но для него война не закончилась: он был направлен на войну с японцами и воевал в Манчжурии. Вернулся из армии в конце 1946 года и сразу занялся строительством дома. К тому же был направлен директором Островлянской восьмилетней школы. Его путь напрямую в деревню Островляне составлял восемь километров в одну сторону. А ходил он туда и обратно почти ежедневно. Чтобы отпугивать волков (не зря тогда последняя улица по пути его следования называлась Волковой деревней), он сделал приспособление из банки из-под американской тушёнки, в которой были сделаны прорези, куда насыпались горящие угли. И так он отходил семь лет, пока ему не предоставили работу учителя физики и математики, а по совместительству и труда, в Городке.
Но Хануку в 1948 году родился я. Бабушка плохо говорила по-русски и я до сих пор помню, как она на идиш рассказывала о Хануке. Бабушка Хана была набожная и убедила отца, чтобы мне сделали обрезание. «Доброжелателей» нашлось немало, и райком партии поднял шум. Это повлияло на то, что отцу много лет не давали работу в Городке. Я же воспитывался бабушкой и до пяти лет говорил в основном на идиш. Но улица быстро внесла свои коррективы.
Моя бабушка долго разыскивала своего любимого младшего сына Абрама. Он до войны окончил Городокский техникум, а затем военное училище. До войны получил назначение замкомандиром пограничной заставы под Белостоком. Ясно, что он погиб там в первые дни войны. Об этом у нас только устное свидетельство жены нашего земляка Соломона Мочкина, который служил старшиной на той же заставе. И сколько дядю ни искали, даже сведений о нем больше найти не удалось.
Мой отец работал учителем и частенько выполнял роль прораба в школах района. Чем дальше я живу, тем больше я понимаю, насколько у него был развит дар предвидения. Многое из того, о чем он говорил тогда, осуществляется сейчас. Войны, нервотрепки привели к тому, что у отца развилась «дикая» артериальная гипертония. 14 апреля 1965 года отец ушёл на работу. В 9.00 он написал число на доске в классе, упал и умер.
Моя мама родилась в 1913 году в райцентре Хойники Гомельской области. Семья у них была большая – восемь детей. Отец ее рано умер, и мать, чтобы прокормить семью, стала печь хлеб, а дети разносили его по домам.
Практически все вышли в люди. Из родных по материнской линии мы поддерживаем связи лишь с детьми ее старшей сестры Миры: Ниной и Эллой. Остальные же родственники, насколько нам известно, живут в США. Мама окончила семь классов еврейской школы в Хойниках. Она рассказывала, как в годы Гражданской войны они прятались от еврейских погромов банды Булат-Булаховича на чердаке. После школы она поступила в Витебский еврейский педтехникум, где получила профессию учителя. До сих пор помню домашние педсоветы, когда собирались у нас дома учителя и обсуждались разные школьные проблемы.
В 1964 году появилось указание, что для поступления в институт нужен так называемый производственный стаж, и отец перевёл меня в школу рабочей молодежи, одновременно определив на работу учеником жестянщика в «Райпотребсоюз». Директором школы была Раиса Мироновна Берновская (не зря говорили, что это была «школа Раисы Мироновны»), завучем – Иосих Аронович Циринский, математику вела Судакова Мена Монидовна, физику – Пескин Владимир Семенович, историю – Белла Львовна Зарецкая, русский язык и литературу – Фира Соломоновна Норштейн, физику и математику ещё вели Перец Львович Судаков, Михаил Львович Усвяцов, Иосиф Давидович Дахия, русский язык – Ольга Ефимовна Ромм. Среди множества учителей-евреев было несколько русских, и среди них учитель по фамилии Желток, а поэтому о школе говорили: «Жиды, желтком помазанные». Знания здесь давали капитальные, и, если учились молодые, то все практически получали потом высшее образование. С Раисой Мироновной Берновской, 94-х лет, проживающей сейчас в Израиле, до сих пор веду переписку.
После окончания школы вопроса «кем быть» не было: отец хотел, чтобы я стал врачом, и я выполнил его волю. Вот уже свыше 30 лет работаю по этой специальности. Здесь же, в Городке, встретил свою любовь, и уже дети вполне взрослые. Судьба распорядилась так, что после службы в армии и работы в Могилеве, я вернулся в Городок.
До 1989 года еврейская жизнь здесь какая-никакая была. В течение следующих десяти лет евреи разъехались – кто в Израиль, кто в Германию, кто в США – и Городок, как и большинство подобных местечек изменился. Прошлое уже никогда не вернется на эти улицы…
Марк Кривичкин
http://shtetle.com/Shtetls/gorodok
Актуальна и публикация про Городок, которая увидела свет еще в 2008 году.
Из цикла «Путешествуем с Аркадием Шульманым».
Есть ли у прошлого будущее?
Я побывал во многих городах и поселках Беларуси, которые когда-то были еврейскими местечками. Интересуясь их историей, приходил на кладбища. Правда, кое-где их вовсе не осталось, тракторами сгребали памятники, освобождая место под посевные площади, или растаскивали старинные мацейвы на фундаменты домов. А там где сохранились остатки кладбищ, смотреть на них было больно и грустно: здесь и пастбище, и местная свалка. Только одинокие памятники, вернее их островерхие макушки еще на виду и с молчаливым укором смотрят на людей.

Городок.
В Городке, небольшом районном центре на самом севере Беларуси, я увидел другую картину. Старинное еврейское кладбище, действующие и поныне, за последние годы расчищено от леса и кустарника, поднято из земли более трехсот мацейв, ремонтируется ограждение, подновляются надписи на памятниках.
Чудес в районном центре не происходит. Еврейская община местечка, имеющая богатейшую и интереснейшую историю, уменьшается с каждым годом и насчитывает всего пару десятков человек. Но есть те, кто помнят о предках, не и подавляют, в силу каких-то сиюминутных интересов, собственную память.

Городок. Старое еврейское кладбище.
Я встретился с ними, мы долго беседовали, они рассказывали мне о своих давних соседях и друзьях, которые разъехались по всему миру или нашли вечный покой (надеюсь, что его никто не потревожит!) на местном кладбище. А потом поднялись к захоронениям. Кладбище находится на возвышенности и отсюда видны районы Городка. С одной стороны течет речка Горожанка, с другой – небольшое озерцо, безымянный ручей делит захоронения на две части: старинную и более близкую нам по времени.
День был яркий, осенняя листва играла на солнце, и кладбище выглядело удивительно живописным.
Марк Иосифович Кривичкин, негласный, но очень действенный руководитель еврейской общины, врач с более чем 35-летним опытом работы, психиатр и невропатолог, заведующий отделением центральной районной больницы, отвечал на мои вопросы.
«Самой старой части кладбища более трехсот лет. Думаю, существует с тех пор, как евреи поселились в Городке. Естественно, документов о первых захоронениях у нас нет. Известно, что в 1869 году было отведена 1 десятина выгонной земли под еврейское кладбище. (И по всей видимости эту десятину добавили к старому кладбищу).
Десять лет назад на старой части был труднопроходимый лес. Никто туда не заглядывал много лет. Однажды я с Зямой Гельфандом полезли туда, скорее, из любопытства, увидели памятники – островерхие камни, обросшие мхом, кое-где видные из земли, а кое-где только на ощупь можно было определить, что они находятся под верхним слоем земли или мха. Я предложил очистить это место от деревьев, кустарника».
В середине девяностых годов, начался массовый исход (по районным масштабам) евреев из Городка. Поехала одна семья-другая, за ними потянулись и остальные.

Городок. Старое еврейское кладбище.
Те, кто никуда не собирался уезжать и оставался жить в родовом гнезде, не хотели чувствовать себя оторванными от сородичей. Может, с этим связано обострившиеся в те годы внимание к еврейскому кладбищу. Оно стало связующим звеном между уехавшими и оставшимися. Это происходило и в реально-бытовом плане: уезжавшие просили смотреть за родительскими могилами, а оставшиеся взяли на себя эту миссию. И в неком мистическом: как в иудейской традиции мацейва – это своеобразное связующее звено между покойником и реальным миром, так и само кладбище становилось единым местом притяжения поступков, мыслей, воспоминаний людей, разъехавшихся по миру.
В Городке еврейское кладбище всегда было досмотрено. В первые послевоенные годы «старики», так их называют сегодня, те, кто соблюдали традиции, помнили о еврейских праздниках: Усвяцов, Богатырь, Хазанов, Кожевников и другие собрали деньги и оградили кладбище, без их разрешения здесь не хоронили людей другой веры. Это касалось смешанных семей. Естественно, никакого официального разрешения они дать не могли, в Городке не было зарегистрирована иудейская община, а кладбище все годы относится к городскому коммунальному хозяйству. Но авторитет стариков был велик, и к ним обращались за разрешением. Они отвечали (так же, как отвечают сегодняшние «старики»): «Если без креста – хороните».
«Собрались мы и решили поднимать памятники, – продолжает рассказывать Марк Иосифович Кривичкин. – Рабочий сезон с апреля до октября. Заведует этим делом Зяма Гельфанд. Он опытный строитель. Сам работает, и людей нанимает. Из техники только лебедка, ломы, лопаты. Есть материальные затраты. Два раз в год собираем деньги на кладбище у местных, но суммы символические. Присылает те, кто живет за рубежом. В Израиле раз в три-четыре года проводят сбор».
В былые времена памятники, установленные на кладбище, делались из местного камня. Кривичкин утверждает, что мастерская находилась в деревне Залучье, в нескольких километрах от Городка. Там работали искусные каменотесы. На мацейвах рельефные, цветные буквы, что встречалось крайне редко, их обрамляют интересные орнаменты. Есть традиционные, как, например, на могилах коэнов. Сохранились на кладбище два каменных стола.
Когда я показал фотографии, сделанные на Городокском кладбище, человеку много лет связанному с музейным делом, он воскликнул: «Это же музей под открытым небом». Сейчас, пытаясь привлечь туристов со всего мира, старые еврейские кладбище включают в списки местных достопримечательностей. Я не слышал, чтобы Городокское кладбище назвали достопримечательностью, или государство помогло, например, поменять бетонные столбики в ограждении.
Часть мацейв, относящихся к первой половине XX века, обломаны, похоже, кто-то кувалдой бил по камню и ломал его у основания.
«Ломали фашисты и полицаи в годы войны, – поясняет Марк Иосифович. – Использовали камни для строительства военных и оборонительных сооружений. А после войны, находились такие, кто тайком вывозил мацейвы с кладбища и делал из них фундаменты домов. Такой дом у нас стоит в Городке по улице Карла Маркса. Между прочим, строил его школьный педагог. По этому не надо удивляться, что в девяностые годы появились юнцы, которые устроили разбой на кладбище. Правда, правоохранительные органы их поймали, а родителей заставили отремонтировать памятники».
Мы идем вдоль рядов захоронений. В небольшом городе все знают друг друга, а уж тем более знает такой человек, как Марк Иосифович, который родился и вырос в Городке.
«Здесь лежат родственники Марка Шагала. Мендель Эльевич –экспедитор, его жена Хая Яковлевна.
…Это семья Ромов. Хая-Бейля гусей выращивала, она была маленького роста, а муж ее, маляр, был гигант, под два метра. Здесь похоронена их дочь, работала фотографом и сын – был классный кузнец.
…Перецы – дед и бабушка моей жены. Наша семья местная, городокская.
…Цинман – был заготовитель. Скромный человек. У него дома висела картина. Написана маслом. Приехал специалист из Питера, посмотрел, от неожиданности заикаться стал. Эта картина относится к «старым голландцам, кругу Рембранта». Ей цены нет. Она висит в еврейском доме, в маленьком городке. Ее купить хотели, Цинман не продал.
…Сейл Шуш – очень набожный человек, знаток идишкайта.
…Гольдвассер Ефим Лазаревич. Участник гражданской войны. Выступал на всех собраниях, в школах, рассказывал о том, как они воевали против врагов советской власти.
…Арон Яковлевич Усвяцов – после войны негласный руководитель еврейской общины. Тогда еще в Городке было немало евреев. В Березовке и Воробьевых горах фашисты расстреляли несколько тысяч человек, но после войны в Городок вернулось почти четыреста евреев. Собирался миньян, выпекали мацу, был шойхет, а когда не стало своего, приезжал из Невеля.
…Свиридовский, маляр, толстый, добродушный человек, по кличке «Ичке дер рокс» (бык – идиш).
…Честных Матвей Семенович, работал бухгалтером в НКВД. На Камчатке служил.
На кладбище нет бесхозных могил, все захоронения наши, – это слова Марка Иосифовича Кривичкина. – Даже если нет детей, внуков у похороненных, или они уехали и забыли (бывает теперь и такое), мы смотрим за памятниками, надгробьями. Ремонтируем, красим».
На старом еврейском кладбище нашли свой вечный приют мудрецы и простаки, храбрецы и трусы, те, кто умел зарабатывать деньги, и те, кто завидовал им, кто строил эту власть и, кого она не любила… На кладбище все равны, здесь мир и покой.

Городок.Улица мощенная Кривичкиным.
Семья Кривичкиных связана с Городком многими поколениями. Дед Марка Иосифовича мостил дороги. Была такая специальность. Полжизни проводил на коленях. Деревянными молотками подгонял камень к камню. Надевали специальные наколенники, вырезанные из толстых шин. В Городке еще сохранились улицы, мощенные Мендел-Авром–Шоломом Янкелевичем Кривичкиным.
Их было три брата. Один в двадцатые годы уехал в Чикаго. Открыл там шляпную фабрику, работа более интеллектуальная и денежная, чем мостить улицы. До войны американские родственники присылали письма, посылки, а потом связь оборвалась.
«Где похоронен дед, не знаю, – говорит Марк Иосифович. – Здесь лежит на кладбище, а место забыто. Здесь же похоронена моя бабушка Хана Кривичкина. Она была из семьи портных. Ее девичья фамилия Пейсахович. В Городке жило много и Кривичкиных, и Пейсаховичей».
Наверное, по биографии семьи Кривичкиных можно изучать историю местечковых евреев Беларуси.
Дети ремесленников выучились и «вышли в люди», как тогда не без гордости говорили о них родители. Иосиф Менделевич Кривичкин окончил физмат Витебского педагогического института, вернулся в Городок и организовал тут первую вечернюю школу. В 1939 году его забрали в армию, воевал во время финской компании. Вернулся домой, опять работал учителем. Грянула Великая Отечественная война. Мобилизовали сразу. Прошел всю войну. Закончил ее капитаном, а потом была еще и война с Японией. В Городок приехал героем. Не у многих было в послужном списке три войны. Снова пошел работать учителем. В 1949 году родился Марк. Как и положено, у евреев на восьмой день ему сделали обрезание. Не афишировали это событие, но кто-то дознался и «стукнул» куда следует. Вмиг забыли, все заслуги Иосифа Менделевича. Над страной висело предчувствие сталинских антисемитских компаний, а здесь в семье учителей сыну сделали обрезание. Иосифа Менделевича отправляют из Городка в сельскую школу. Выгнали бы вообще с «волчьим билетом», да сельские школы остро нуждались в педагогах. Стал работать в Островлянской школе. Каждый день по два часа ходил туда и обратно. Часто попутчиками в длинной дороге были волки. Даже из Городка приходилось выходить через улицу, которая исторически так и именовалась Волкова слобода. Брал с собой в дорогу палку с прибитой банкой из-под американской тушенки. В банке были сделаны прорези, перед выходом Иосиф Менделевич заполнял ее горящими углями. Волки боялись банки и не трогали учителя. Умер он, не дождавшись пенсии. Пришел в класс, написал на доске дату, и упал… Его похоронили на еврейском кладбище.
А где похоронен его младший брат Абрам Менделевич, семья так и не смогла узнать. До войны он окончил военное училище и отправился служить под Белосток, заместителем командира пограничной заставы. Они первыми 22 июня 1941 года приняли на себя удар фашистов… Родителям прислали извещение, что их сын пропал без вести. Хана Кривичкина не верила в это, и молилась за него, и разговаривала с ним на идиш. Искала везде, запросы слала, в Москву в Красный Крест ездила.
Мама Марка Иосифовича тоже была учительницей. Свою педагогическую деятельность начинала до войны в деревне Александрово, это в пяти километрах от Городка. Там был еврейский детский дом. Ее все звали «Хаверте Хае». В детском доме говорили на идиш и преподавали на еврейском языке. Когда началась война, мама с трудом смогла убедить деда с бабушкой уйти на восток. Дед говорил, что во время Первой мировой войны немцы относились к ним хорошо и те страхи, что рассказывали о фашистах польские беженцы – выдумки. Но мама настояла. Во время одной из бомбежек, по пути на восток, потерялась старшая сестра Марка – Елизавета. Она нашлась через несколько дней. Но с тех пор мама стала кричать по ночам. После войны и до самой пенсии она работала учительницей младших классов в Городке.
Похоже на Марка Иосифовиче заканчивается династия городокских Кривичкиных. Сын, после учебы в Израиле, работает в Китае, а дочь учится в московском университете и наверняка рассчитывает на более интересную жизнь, чем возвращение в районный центр.
Я не стал задавать Марку Иосифовичу вопрос, который, наверное, возникает у многих. «Для чего или для кого они вкладывают столько сил в старое кладбище?» Пройдет десяток-другой лет, и не останется евреев в Городке. (Еврейская история, конечно, не предсказуема, но не настолько!). Никто не будет приходить на кладбище, ну, разве редкий заезжий гость. И придет оно в запустение…
Есть люди, для которых понятия долга, памяти, куда убедительнее, чем житейская логика. На вопрос: «Есть ли у прошлого будущее?» они ответят самым парадоксальным образом и, наверное, будут правы.
Выходя из кладбища, мы сорвали три пучка осенней травы и бросили их через левое плечо. Кривичкин сказал, что так учила его мама. Она родилась в Полесье, такой обычай бытовал среди местных евреев. Потом подошли к реке Горожанке, и вымыли руки. Так делали и деды, и прадеды…
Улица родная, Староневельская улица моя…
Марк Кривичкин отправился по делам, и с кладбища мы возвращались с Зямой Гельфандом.
Он родился в 1932 году в Городке и хорошо помнит довоенное местечко, но особенно ему врезался в память день, когда фашистские самолеты впервые бомбили их.
«Мы лежали на берегу реки Горожанка, рядом с мостом, купались и загорали. У взрослых, конечно, были свои хлопоты, но нам, пацанам, было по восемь-девять лет, и что бы ни произошло, в жаркий летний день, мы были на берегу реки. Вдруг в небе показались самолеты. Летели так низко, что были видны лица летчиков. Они хотели разбомбить мост через Горожанку. Падавшие бомбы блестели на солнце. В мост не попали. Но осколками убило одну из женщин, которая оказалась недалеко. В Городке сразу началась паника. Люди стали собираться, кто-то говорил, что надо отсидеться в деревнях. Отец был кадровый военный, он строго наказал маме незадолго до войны: «Если начнется заваруха, забирай детей, стариков, если те согласятся, и уезжай немедленно».
– Расскажите об отце, – прошу я.
– Мой отец Меер Гельфанд. Они познакомились с мамой в Городке и уехали в Харьков. На Украине в начале тридцатых годов был страшный голод. Отец умер от голода. Мама забрала меня, совсем маленькую сестру и вернулась к родителям. Младший брат Меера был кадровый военный. Его звали Наум. Он взял маму в жены, у них родился еще один сын, мой брат Миша. И я Наума считаю своим отцом.
По древней еврейской традиции так и полагалось, если умирал старший брат, вдову брат в жены – младший. Не знаю, соблюдали традиции в семье Гельфандов и Шофманов, или приглянулись молодые люди друг другу. Только недолгим было их счастье. Наум служил в разных военных городках вдали от родных мест, жена ждала его в родительском доме.
В 1942 году семья получила извещение, что Наум Гельфанд пропал без вести. Чтобы было понятно сегодняшнему читателю, «пропал без вести» для еврея или коммуниста, которых в плен не брали, означало «погиб», за очень-очень редким исключением.
– Лошади у деда Шимхе-Саи не было, – продолжает рассказ Зяма Гельфанд. – Пошли на восток пешком. Мама Года, или Оля как ее звали по-русски, с тремя детьми, и бабушка Бася.
Не самый мобильный отряд был у Шофманов, но помогали многочисленные родственники, кто-то где-то подвезет, поднесет. Так дошли до Торопца, это город в Калининской (Тверской) области. Фашисты бомбили дороги, железнодорожные станции. Беженцам сказали, что их вывезут на открытых платформах. Они сидели в лесу, недалеко находились солдаты-зенитчики.
– Помню, как сбили немецкий самолет, – говорит Зяма Гельфанд, – и взяли в плен немецкого летчика. Я впервые видел немцев. Летчик, спрыгнувший на парашюте, был самовольный, даже смеялся.
По дороге дед заболел, и его оставили в больнице. Уже после войны Гельфанды-Шофманы узнали, что он умер в Калинине и похоронен там. А баба Бася вместе с дочкой и внуками оказалась в эвакуации в Татарии. Года пошла работать в колхоз.
Бася Шофман переживала за своих сыновей, о которых ничего не знала. Старший – Исаак Шофман, работал учителем в Городке. В 1937 году его арестовали по чьему-то навету. Отсидев десять лет в лагерях, вернется в 47-ом году домой. Потом снова арест. И так до середины пятидесятых, когда стали реабилитировать сталинских зэков. Исаак был сильной личностью, и, несмотря на все невзгоды, стал работать адвокатом в Витебске.
Средний – Аркадий Шофман остался жить в Татарии. Занялся исторической наукой и многого достиг, стал доктором наук.
Младший – Давид в 17 лет окончил Витебское художественное училище и втайне от родителей уехал в Биробиджан. Тогда страна звала евреев на Дальний Восток, осваивать земли на берегах реки Биры. Только из Еврейской автономной области, устроившись на новом месте, Давид прислал письмо. В годы войны он воевал, был тяжело ранен, освобождал соседний Невель, но Городок навестить не сумел. После войны жил в Хабаровске. Активно участвовал в художественных выставках. О нем писали газеты. Дома у Зямы Гельфанда висит на стене небольшой этюд Давида Шофмана.
Как только семья узнала, что советские войска освободили Городок, тут же засобирались домой. Приехали в Белоруссию в 1944 году.
«Разрушена была центральная часть Городка. А улица, где мы жили, более-менее сохранилась, – вспоминает Зяма Гельфанд. – В оккупации оставалась вся бабушкина родня по фамилии Поверенные. Они погибли в гетто. Когда мы приехали, люди рассказывали, как немцы издевались над евреями. Мне всего двенадцать лет было, но я помню эти рассказы. А в октябре 1941 года немцы уже расстреляли гетто».

Городок. Здесь было гетто.
Мы шли домой к Гельфанду по улице Галицкой, раньше она называлась Староневельской и Зяма, показывая мне дома, рассказывал об их давнишних хозяевах.
«Вот здесь жил Шубик. Во дворе был небольшой кожзавод. Видите здание из красного кирпича, оно еще сохранилось. У него работали мужики из окрестных деревень. Я этих мужиков еще застал и разговаривал с ними. Они мне рассказывали, что Шубик обязательно каждую неделю с ними рассчитывался. Аккуратный был человек. Когда началась революция и гражданская война, он понял, что богатых не пощадят.
Дочь Шубика еще до революции крестилась и вышла замуж за попа. Трагедия была в доме. Лет восемь назад в Городок приезжали люди и интересовались Шубиками. Послевоенные жители о нем ничего не знают, а мне сказали поздно, когда те уже уехали. Это или наследники дочки, или сына. Он учился на юридическом факультете. Несмотря на происхождение отца, советская власть разрешила ему получить высшее образование».
– Улица до войны была еврейской? – спрашиваю я.
–Процентов на восемьдесят, – отвечает Зяма.
– Говорили на идиш?
– Обязательно. Даже русские, белорусы говорили на идиш.
«В этом доме жил Хаим Войханский с женой Марусей и тремя детьми. Рассказывали после войны разное. Хаим попал в партизанский отряд, но по ночам иногда приходил домой к жене. Его убили полицаи. Жена, говорят, чтобы спасти детей, «скрутилась» с полицаем. Старшие дети были светленькие, Маруся говорила всем, что они не от Хаима, она их нагуляла на стороне, и их не тронули. А младший – был копия отец. И фашисты его убили.
После войны Маруся сошла с ума.
В доме напротив нас жили родители Хаима, отец Шимон-Лейбе и мама».
– Где вы жили?
Зяма показывает мне:
– Здесь стоял коммунальный дом. Одна семья была русская, остальные – евреи.
«В этом доме жил молодой еврейский парень. Когда к нему пришли полицаи, он не стал им отдавать нажитое добро. Они отвели его в конец улицы и расстреляли»…
После войны Зяма Гельфанд пошел работать учеником к сапожнику. Учился у Христофорова. Его сын сегодня видный деятель партии Жириновского.
«Христофоров хороший был мужик, – вспоминает Зяма. – Умел с людьми говорить».
Когда Гельфанд вернулся с армии, пошел работать на стройку. Стал бригадиром одной из лучших в Советском Союзе бригад сельских строителей. Его поощряли, он был участником совещания лучших строителей страны, предлагали квартиру и в Городке, и в Витебске, где он тоже строил дома. Но Зяма отказался. Помните, как в песне: «Я согласен на обмен, но прошу учесть момент, только вместе с улицей моей».
И когда Гельфанд подсобрал немного денег и стал строиться, участок выбрал себе недалеко от того места, где прошло его детство. Дом красивый, просторный. Внизу небольшое озерцо. Рыбалка – это страсть Зямы Гельфанда.
Мы зашли к нему домой.
Жена Любовь Юдовна накрыла на стол и позвала обедать. За обедом наш разговор продолжался. Только теперь уже больше говорила жена.
Мой отец тоже родился в Городке. Звали его Юда Абрамович Лозовский. Но еще до войны он с мамой Цылей Боруховной Перловой, она из деревни Бескатово, переехали в Невель. У этих городов исторически была какая-то особая связь. Городокские женихи брали невест из Невеля, и наоборот – невельские из Городка.
В Невеле бытовала даже шуточная поговорка «Городокер – дер бульбе фресер». В переводе с идиш это означает, что городокские евреи большие любители картошки, что недалеко от истины.
Кстати, в Городке я еще раз убедился, какими колоритными и смешными были местечковые прозвища. Например, маленького и шустрого делового еврея в Городке называли «Килограмчик».
Юда Абрамович работал в колхозе, занимался коневодством. Когда началась война, Лозовский вместе с председателем колхоза, кстати, тоже евреем Владимиром Квактуном, погнали колхозное стадо во Владимирскую область. И сумели в этой неразберихе, доставить колхозное добро за тысячу километров. А уж после этого Юда Лозовский ушел на фронт…
Памятники на местах расстрелов
С начала осени я собирался побывать в Березовке и на Воробьевых горах – местах, где фашисты и их местные пособники расстреливали городокских евреев, но всякий раз Марк Кривичкин и Зяма Гельфанд отговаривал меня:

Воробьевы горы.
– Не пройдем, воды по колено.
И вот в середине ноября, после десяти дней ясной погоды, когда по ночам уже подмораживало, а днем – светило солнце, мы приехали в Городок. Марк Кривичкин и Зяма Гельфанд сели в нашу машину, и мы отправились сначала на Воробьевы горы.
Сразу за городом установлены памятники жертвам, которые принес народ Белоруссии в Великой Отечественной войне.
Сначала скромный памятник сожженной деревне. Его установил кто-то из местных жителей – детей тех, кто жил в уничтоженной деревне.
Через пару десятков метров, чуть в глубине леса Мемориал. Здесь фашисты расстреливали партизан, подпольщиков, мирных жителей, которых хватали во время облав или подозревали в чем-то. Наверху памятник – бетонная стена и барельефы людей, призывающих к Памяти. Внизу, в овраге, несколько лет назад, открыли пантеон погибших деревень. Их названия на бетонных тумбочках и здесь же карта Городокского района, на которой отмечены все довоенные населенные пункты. В сооружении этой части Мемориала приняли активное участие московские школьники.
Отправились по полевой дороге дальше и ощутили все «прелести» белорусской осени. На глиняной дороге стояли лужи, по-моему, не просыхающие с сентября. Мы выходили из машины и к лошадиным силам двигателя «Рено» добавлялись три человеческие силы, толкавшие машину. Наконец, добрались до леса. От окраины Городка километра четыре-пять. Безусловно, немцы, плохо ориентировавшиеся вне населенных пунктов, не могли сами выбрать место казни. В этом им содействовали местные приспешники.
У лесной дороги стоят два бетонных столба и наверху, метрах в пяти от земли, металлическая арка, на ней прикреплены голубые шестиконечные звезды.
Архитекторы или скульпторы не придумывали этой композиции. Все сделали два уже немолодых человека: Зяма Гельфанд и его друг Израиль Нордштейн. Израиль сейчас живет в стране, носящей аналогичное название.
– С бетонными столбами помогли знакомые энергетики, – рассказывает Зяма Гельфанд.
– Раньше здесь была узкая лесная тропинка. Я обратился к своим знакомым из лесничества, и они помогли – вырубили деревья, расчистили дорогу, – говорит Марк Кривичкин.

Памятник на Воробьевых горах.

Гельфанд и Кривичкин у памятника на Воробьевых горах.
Рядом с дорогой ямы. Вырыты недавно.
– «Черные» копатели, – поясняет Марк Кривичкин. – Недавно в Городке поймали несколько таких старателей.
– Что они ищут? – спрашиваю я.
– Здесь в 1942-1943 годах фашисты расстреливали пленных красноармейцев. Ищут медальоны, оружие – все, что звенит.
– Еврейское захоронение не трогают?
– Нет, к нему не подходят.
Под высокой сосной памятник из черного гранита. На нем выбиты слова о гражданах Советского Союза, расстрелянных в августе 1941 года. Памятник поставили в начале 80-х годов. Активное участие принял в этом деле Аркадий Борисович Будман. Он был в свое время председателем колхоза – известный в районе человек. Сам из Молдавии. Но в годы войны подразделение, которым он командовал, взяло Городок и как тогда полагалось, Будман был назначен комендантом Городка. Здесь познакомился с девушкой, женился и остался до глубокой старости. Дети уехали жить в Германию, сам он не очень хотел следовать за ними, но жизнь заставила.
Надпись о советских гражданах была в то время стандартная, другую, упоминающую евреев, не пропустила бы цензура. И разумная целесообразность взяла верх. Со средствами и материалами помогло районное начальство, кое что подсобрали родственники погибших. Непосредственное участие в строительстве памятника приняли многие жители Городка и строительная бригада Зямы Гельфанда.
В 90-е годы, когда многое стало разрешено, городокские евреи решали, что делать с надписью, то ли заменить ее на другую или выбить на памятнике магиндовид и так обозначить, что поставлен он евреям.

Памятник в Березовке.
Решили сохранить надпись. Как оказалось, памятник нигде не был зарегистрирован, и только недавно его внесли в официальный реестр.
Пару лет назад районный исполнительный комитет принял участие в благоустройстве территории вокруг памятника. За государственные средства была поставлена новая ограда. Посоветовались с еврейской общественностью, тогда евреев жило в Городке немного больше чем сейчас, и в орнамент металлической ограды был внесен магиндовид.
Рядом с братской могилой ров. Вероятно, на высоком краю рва стояли палачи и стреляли в людей.
– В надписи на памятнике неточная дата. Расстреливали евреев на Воробьевых горах не в августе, а 13 октября 1941 года, – рассказывает Марк Кривичкин. – Я недавно беседовал с сестрами Ефремовыми. Они местные старожилы, хорошо помнят и довоенные и военные времена. Одна из сестер назвала мне дату и сказала, что так хорошо ее запомнила, потому что это день ее рождения.

Памятник в Березовке.
На Воробьевых горах расстреливали женщин, стариков и детей. С мужчинами, с теми, кто мог оказать фашистам сопротивление, расправились раньше, в августе, еще до того, как людей согнали в гетто. Их отвели в Березовку, под предлогом, что отправляют на работы, и обратно они уже не вернулись.
Мы поехали в Березовку. Машину оставили на дороге, ведущей в Витебск, и пошли по полю пешком. Вот здесь действительно местами воды, оказалось, по колено.
– Каждый год на Тышебов (9 Ава) мы навещаем братские могилы расстрелянных евреев, – рассказывает Марк Кривичкин. – Когда-то заказывали три автобуса, чтобы все вместились, а в этом году заказали один – и тот был неполный. До могилы на Воробьевых горах доезжаем, а здесь приходится идти пешком. Пожилые люди не могут преодолеть это расстояние, они остаются в автобусе. Раньше дорога была почти до самого памятника, а потом колхоз перепахал ее и стал здесь сеять.

Открытие памятника в Березовке.
Памятник находится среди перелеска. Зяма и Марк немного поблуждали по высокой траве, пока вышли к нему.
Укромное место не спасло памятник от варваров. Слова о «советских гражданах Городка, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в 1941 году» и погребенных здесь, были на металлической табличке солидных размеров. Грабители решили, что этот металл дорого стоит, и похитили табличку с надписью. Позже на ее месте вмонтировали бетонную плитку. На ней слова: «Евреи – жертвы фашизма».
Памятник интересный в архитектурном решении. На колоне, напоминающей то ли печную трубу, то ли косяк дома, прямоугольник – окно, в котором лицо старой еврейской женщины, оплакивающей своих детей. Рядом – усеченная пирамида, напоминающая надгробье. На ней надпись.
– Памятник поставили во второй половине 60-х годов, – рассказывает Зяма Гельфанд. – Деньги, были собранны среди родственников погибших, но их, как всегда, не хватало. Помогли и райисполком, и тогдашний райком партии. Оттуда звонили в строительные организации, все делалось в срок и иногда за символическую цену.
На открытии памятника присутствовало городокское начальство. В те годы это значило немало.
http://shtetle.com/Shtetls/gorodok